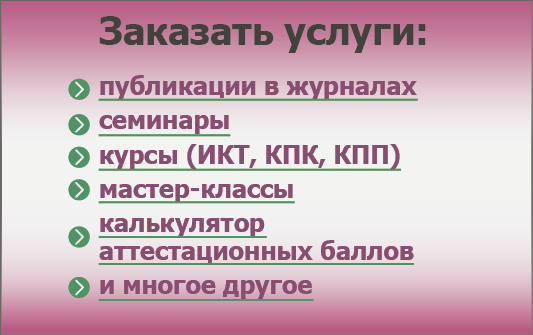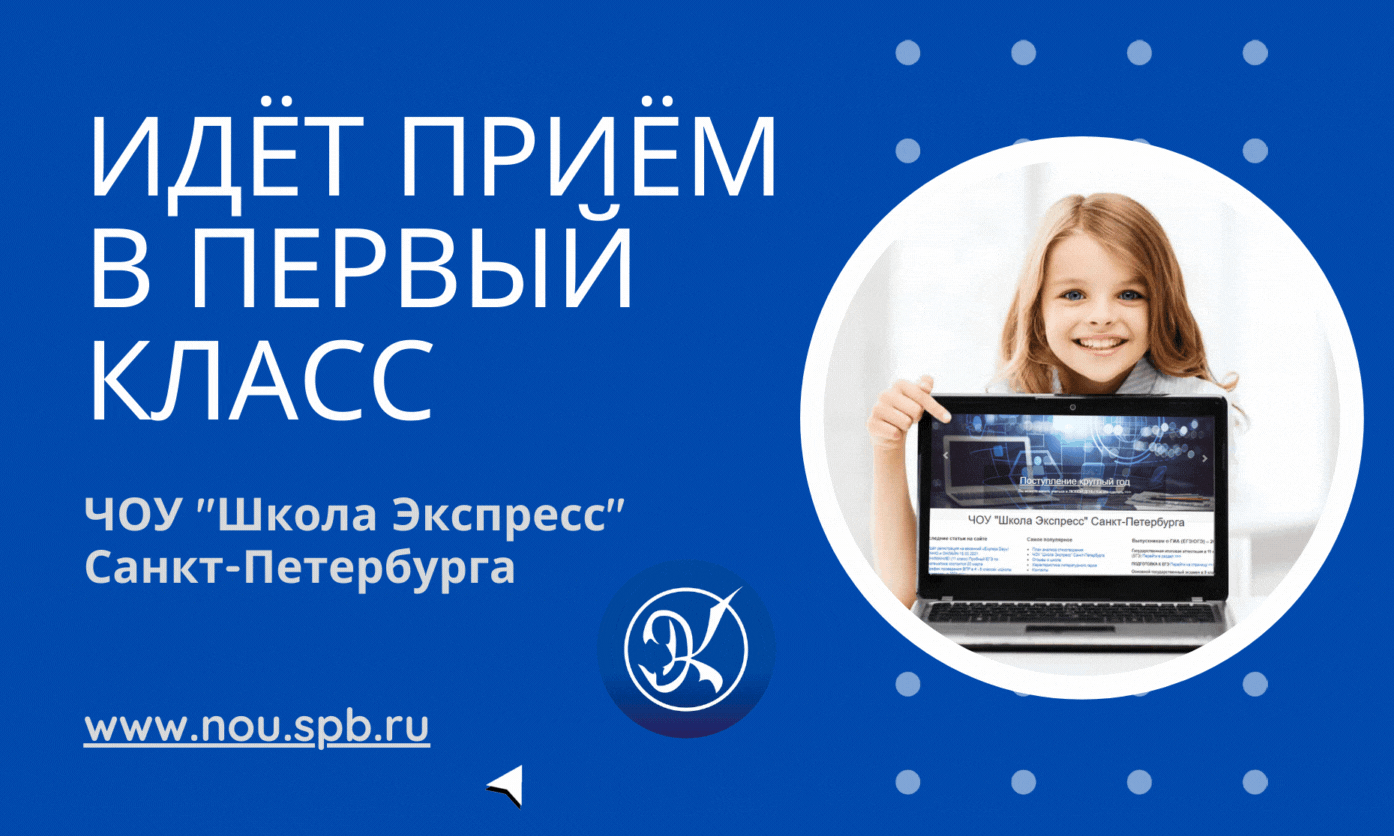Художественный язык Л.Н. Толстого
Цурган Валерия Викторовна
Язык художественной литературы представляет собой самое своеобразное явление в системе разновидностей русского языка.В языке художественной литературы свободно используются элементы из территориальных и социально-профессиональных диалектов и просторечия – элементы, принадлежащие нелитературным разновидностям языка. По этой причине некоторые ученые [Л. П. Якубинский, 1986] считают, что язык художественной литературы шире литературного языка. Однако большинство ученых [Г. О. Винокур, 1991; В. В. Виноградов, 1980] справедливо полагают, что дело не в составе языковых единиц, а в сферах употребления и в объеме функций, которые у литературного языка во всей совокупности его разновидностей, безусловно, шире, чем у языка художественной литературы.
Язык художественной литературы и литературный язык в некоторой степени делят между собой две важнейшие функции человеческой речи: выражение смысла (эксплицирование) и его передачу (коммуникацию) [В. А. Лукин, 2005; Л. А. Новиков, 1988]. Литературный язык более диалогичен: для него важнее момент всеобщности, вседоступности, всепонятности; наиболее приоритетной целью является широкое распространение содержания. Напротив, язык художественной литературы более монологичен: он служит, прежде всего, для «выявления» содержания, ментального, эмоционального и волевого, но полно и максимально адекватно воплощенного [В. П. Белянин, 1988]. Его особенность в гибкости выразительных средств, иногда даже за счет их сознательной примитивизации. Это вовсе не означает, что язык художественной литературы не имеет или не учитывает адресата. Поэтому наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой язык художественной литературы входит в литературный язык и представляет собой одну из его разновидностей. В. В. Виноградов писал: «В сущности, язык художественной литературы, развиваясь в историческом контексте литературного языка народа и в тесной связи с ним, в то же время как бы является его концентрированным выражением».
Но и те, кто признает язык художественной литературы, одной из разновидностей литературного языка, оценивают эту разновидность по-разному. Отправной точкой для такого расхождения взглядов следует считать труд Г. О. Винокура «О языке художественной литературы». Г. О. Винокур выделял три основные характеристики языка художественной литературы: 1) как стиль речи, имеющий наряду с другими стилями свою традицию употребления языковых средств в особом значении; 2) как язык, наделенный особой поэтической экспрессией; 3) как язык, возведенный в ранг искусства. В третьем – важнейшем – определении пересекаются и оба предыдущих. Расхождение взглядов проявляется в следующем: одни считают, что язык художественной литературы, как имеющий свою сферу употребления (художественную) и свою функцию (эстетическую), можно поставить в один ряд с функциональными стилями и, следовательно, можно употреблять термин «художественный стиль» [Р. А. Будагов, 1984]; другие предпочитают говорить не о художественном стиле, а о языке художественной литературы как о явлении более широком и многообразном, в истории культуры более значимом, чем функциональные стили, к тому же могущем иметь в своем составе элементы, почерпнутые из любого функционального стиля [З. Я. Тураева, 1986; Л. В. Поповская, 2006]. Сторонников последней теории большинство. Исходя из сложившейся традиции, в историко-культурном, филологическом аспекте предпочтительнее говорить о языке художественной литературы.
Л. Н. Толстой входит в общее русло реалистических исканий времени и окончательно ломает пережитки прежней традиции.
Выполняя историческую миссию художника-реалиста, Л. Н. Толстой в своих исканиях побуждался и руководился не только стремлениями к художественному «реализму» как таковому. Вся система выработанных им средств отвечала и служила его личным творческим идейным интересам [И. Н. Успенский, 1953].
Словесное искусство Льва Николаевича Толстого своими языковыми корнями глубоко уходит в русскую книжную литературно-художественную культуру XVIII — первой половины XIX вв. На протяжении полувека язык Л. Н. Толстого переживает сложную эволюцию [М. М. Бахтин, 1997]. Происходят функциональные перемещения внутри системы основных социально-языковых категорий, из которых образуется стиль Л. Н. Толстого, в разные периоды творчества Л. Н. Толстого резко меняется структура стилевых пластов.
В языке Л. Н. Толстого с самого начала обнаружилась смесь архаических и архаистических форм выражения с новаторскими приемами психологического анализа и выражения душевной жизни и экспериментами в литературной сфере [В. В. Виноградов, 1976].
Обострение и экспрессивное напряжение драматической речи, широкое развитие форм «домашнего» диалога, углубленный строй «внутреннего монолога» и разнообразные вариации внутренней речи свидетельствуют об открывшихся Толстому новых горизонтах в области стиля семейного романа [Билинкис Я. С., 1970].
Субъективные оттенки экспрессии, окрашивающие лексику и синтаксис, бросаются в глаза.
В. В. Виноградов в своей статье «О языке Толстого» говорит о том, что семантические формы «внутреннего монолога», включенные в структуру повествовательного стиля, ассимилируются грамматическим строем авторской речи. Они теряют специфические черты индивидуальной речи и мысли и превращаются в экспрессивно-символические «призмы» литературного изображения. При посредстве таких «призм» Л. Н. Толстой сочетает «объективные образы» с их субъективно-эмоциональным восприятием и освещением.
Л. Н. Толстой впервые в русской литературе подверг художественной переработке и перевел на язык художественной прозы формы внутренней речи, на их основе построив оригинальный стиль «внутреннего монолога» [С. Л. Бычков, 1954]. Известно из психологии языка, что внутренняя речь образует особую и своеобразную по своему строению и способу функционирования речевую сферу. Только здесь, во внутренней речи, можно услышать непосредственный и чистый, правдивый голос сознания. В таких случаях как бы преодолевается несоответствие между словами и мыслями, переживаниями [В. Н. Телия, 1988]. Во внутренней речи, по Л. Н. Толстому, начинает светиться и отражаться чистая мысль.
Ни в какой стороне творческого процесса не сказывается столь сильно личное своеобразие писательской индивидуальности, как в области психологического рисунка.
Психологический рисунок в творчестве Л.Н. Толстого определяется:
1) его интересом к определенным состояниям, и 2) его теорией психики, то есть его пониманием внутренней жизни человека вообще. Конечно, здесь нет речи о законченной, научно обдуманной системе, теоретизм здесь понимается лишь в смысле наличности более или менее постоянной суммы убеждений о наполнении и связи между отдельными моментами психического процесса [А. П. Скафтымов, 1958].
Лев Николаевич Толстой одним из первых в русской прозе ставит во всей экспрессивной глубине и психологической широте проблему словесного выражения и изображения индивидуальности. Языковая структура образа личности в художественной системе Толстого определяется предметно-смысловыми и экспрессивными формами речи.
По словам Скафтымова А. П., первое, что особенно выпукло выделяет психологический рисунок Толстого, — это его стремление изображать внутренний мир человека в его процессе как постоянный, непрерывно сменяющийся психический поток.
Как правило, каждое из произведений Толстого представляет собой не что иное, как «историю души» одного или нескольких главных лиц за некоторый промежуток времени. «Детство», «Отрочество», «Юность» — это «история души» Николеньки. Второй севастопольский рассказ — история Души капитана Михайлова, третий севастопольский рассказ — история переживаний Володи Козельцова и отчасти его брата, «Семейное счастье» — история чувств сменяющихся настроений Маши, «Рассказ маркера» — история нравственных колебаний и падения князя Нехлюдова, «Война и мир» — огромная история духовных смен и роста целого ряда лиц, «Анна Каренина» — история души Анны и Левина. Человек у Л. Н. Толстого ни на минуту не останавливается, и в каждый момент он разный. Л. Н. Толстой всегда следил и больше всего смотрел на этот неперестающий ход бегущих настроений и сложнейших одномоментных сочетаний в зыбком потоке психики.
На основании наблюдений над совсем немногими ранними произведениями Чернышевский определил это свойство психологического рисунка Толстого, назвав его «диалектикой души». «Внимание графа Толстого, — пишет Чернышевский, — более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другое чувство, снова возвращается к прежней исходной точке и опять странствует, изменяясь, по всей цепи воспоминаний». Л. Н. Толстого занимает «сам психический процесс, его законы, — диалектика души, чтобы выразиться определительным термином».
Л. Н. Толстым воспроизводятся переходы из одного состояния в другое, обнажается поток непрерывной сменяемости мыслей, настроений, стремлений и всяких иных элементов самочувствия персонажа не для простой констатации этих смен, но ради аргументирующей и обосновывающей художественной логики всякого произведения как целостного единства. Эта смена состояний всегда к чему-то ведет, она что-то доказывает.
По словам А. Григорьева, «Толстой прежде всего кинулся всем в глаза своим беспощаднейшим анализом душевных движений, своею неумолимой враждой ко всякой фальши, как бы она тонко развита ни была и в чем бы она ни встретилась. Он сразу выдался как писатель необыкновенно оригинальный смелостью психологического приема. Он первый посмел говорить вслух, печатно о таких дрязгах, о которых до него все молчали, и притом с такою наивностью, которую только высокая любовь к правде жизни и к нравственной чистоте внутреннего мира отличает от наглости».
Во всей манере обрисовки персонажей, в способах описания, в приемах раскрытия их отдельных эмоциональных состояний, в раскрытии их внутренней и внешней «биографии», в конструкции диалогов, в приемах построения медитаций, наконец, в их взаимном сопоставлении как целостных образов — всюду отражается постоянная забота Л. Н. Толстого [А. И. Поповкин, 1955].
Разнообразие «тональностей», их детализация и индивидуализация, их резкая смена — характерная особенность диалога Л. Н. Толстого [В. В. Виноградов, 1976]. Драматическое воспроизведение индивидуальной речи в языке Л. Н. Толстого часто сопровождается описанием тона, «голоса». Указание на тон придает высказыванию выразительность, полноту и индивидуальную красочность живой речи, а разоблачение фальшивых интонаций убивает «фразу», совлекая с нее риторические украшения и обессмысливая ее. Например, в «Анне Карениной»: «Все-таки не поминай меня лихом, Костя!» — и голос его дрогнул.
Это были единственные слова, которые были сказаны искренно. Левин понял, что под этими словами подразумевалось: «ты видишь и знаешь, что я плох, и, может быть, мы больше не увидимся». Левин понял это, и слезы брызнули у него из глаз» [Э. Г. Бабаев, 1978].
«Философия слова» Л. Н. Толстого видит в языке слов искусственный налет культурной традиции, отпечаток цивилизации [В. В. Виноградов, 1976]. Поэтому слова, по Толстому, не отражают непосредственно жизни индивидуального сознания. Они фальсифицируют мысль, чувство и желание, облекая их выражение в условные и лживые формы. Голые слова не в силах выразить индивидуальные нюансы мысли и чувства. В них слишком мало свободы для субъективного, индивидуального. Совсем иное дело — язык мимики.
Однако в языке Толстого говорят не только звуки, не только звучащие предметы, но и бесшумные вещи — голосами героев. Так, в «Анне Карениной» Левина окружают вещи и говорят ему. «Все эти следы его жизни как будто охватили его и говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим; а будешь такой же, каков был: с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками исправления и падениями, и вечным ожиданием счастья, которое не далось и невозможно тебе». Но это говорили его вещи; другой же голос в душе говорил, что не надо подчиняться прошедшему; и что с собой сделать все возможно».
В языке Л. Н. Толстого укрепляются устойчивые приемы словесного обозначения поз и движений, в которых выражаются состояния персонажей, отстаиваются своеобразные формулы для передачи этого языка наглядных, внешних, телесных движений. Обнажающая функция языка тела особенно ясно обнаруживается там, где Толстому нужно показать моменты несовпадения между подлинным состоянием и волевым самообнаружением [В. В. Ермилов, 1963]. Так, например, высшая степень аффекта, нервного возбуждения выражается в языке Л. Н. Толстого у самых разнообразных персонажей посредством указания на дрожание или трясение нижней челюсти.
У Л. Н. Толстого описания чувства как такового нет. Его изображение эмоционального состояния всегда состоит, в сущности, из перечня тех воздействий, какие пришли из внешнего мира и притронулись к душе. Душа всегда звучит под бесчисленными, иногда незаметными, неслышными пальцами действительности данного момента [Исакова Е. М., 2011].
Ему нужны корни человеческих поступков. Он взвешивает побуждения, стремления, порывы, определяющие человеческое поведение, — и в этом хаосе бесчисленных импульсов старается выделить первичное, непосредственно исходящее от натуральных, искренних влечений, и вторичное, побочное, явившееся результатом социальной и бытовой инерции, автоматизма, умственной и духовной лености и слепоты. Весь мир внутренних переживаний он непременно ставит на сравнительные оценочные весы по критерию непосредственного ощущения значительности, преимущественной важности в смысле конечного, завершающего удовлетворения [А.П. Скафтымов, 1972].
У Л. Н. Толстого нет ни быта отдельно от психики, ни психики отдельно от быта. Если проследить повороты в настроениях и в мыслях персонажей, они у Л. Н. Толстого всегда крепко связаны с толчками внешнего мира [А. М. Скабичевский, 1887]. Л. Н. Толстой всегда показывает психические проявления в специфической зависимости от данного наплыва телесных или внешних факторов. Прослеживая жизнь возникающего и развивающегося чувства, Толстой не отрывает его от полноты и разнообразия реального пребывания человека. Данную страсть, мысль, нужное ему явление или проблему Толстой погружает во всю бытовую наполненность человеческого бытия.